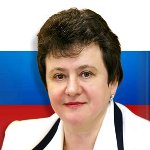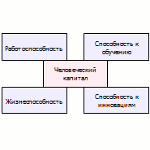Анонс событийМеждународная конференция "Философские, социально-экономические и правовые основания современного государства"10-11 июня состоится Международная конференция Философские, социально-экономические и правовые основания современного государства . Организатор: кафедра философии «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения»31 мая 2010 года в ГУ ВШЭ (Москва) состоится конференция, посвященная 15-летию международного исследовательского проекта Российский мониторинг экономического положения «Национальный проект - Россия»1 июля 2010 года в Москве, в Центре международной торговли по инициативе Ассамблеи делового сообщества состоится Всероссийская акция Национальный проект - Россия |
Нетрадиционный вызов информационных технологийДата первой публикации: n/a Первоисточник: iee.org.ua В настоящее время, кроме уже известных или обычных проблем, общество сталкивается с нетрадиционными проблемами, которые появляются в результате динамики процессов. Рано или поздно информационная технология - InfoTech - должна будет заняться системным характером процесса, чтобы справиться с ростом детерминированного хаоса, и, следовательно, с внутренним полевым характером действия, так же как с его увеличивающейся чувствительностью по отношению к своим начальным краевым условиям и сигналам извне. Недостаточно понимать процесс как последовательность дискретных шагов. Мы должны научиться иметь дело с процессом в его нелинейной полноте, с его динамическим полевым, диссипативным или размазанным характером. Глобальное информационное общество и его стандартные проблемыНачиная с доклада Бангемана «Европа и глобальное информационное общество» (Bangemann, 1994), понятие «информационное общество» трактуется — по крайней мере в Европе — как современное общество с экономической и культурной жизнью, кардинально зависящей от информации и технологии связи, т.е. от вычислительной техники, средств связи, ЭВМ и программного обеспечения в глобальной сети. Явно то, что информационное общество, характеризующееся усиленной интеллектуальной деятельностью, находится на стадии перехода в глобальное сообщество, все более зависимое от информационной технологии. Другая особенность такого общества — его «кооперативное соревнование». Информационное общество — это весьма конкурентоспособное демократичное общество с широко развернутым, массовым высшим образованием и культивированием индивидуального саморазвития, чтобы удовлетворить потребности интенсификации инноваций. Согласно Бангеману, первичная цель Европейского союза состоит в том, чтобы стать ведущим информационным обществом в мире, к которому другие должны были бы присоединяясь приспосабливаться. Информационное общество должно не только обеспечить быстрый и эффективный доступ к информации — хотя такой доступ пока еще оставляет желать лучшего —, но также должно преуспеть в технологической гонке, используя инновацию как метод приобретения технологического и, следовательно, экономических преимуществ. Хотя социальное влияние инновации обычно измеряется процентом ее вклада в валовой внутренний продукт (ВВП) — сверх влияния вложенного капитала и труда, этот вклад инновации составлял приблизительно 40% в Достижение экономически эффективного и социально успешного технологического преимущества среди жестокого всемирного соревнования путем форсированной инновации — это вызов, и весьма неординарный вызов наших дней. Историческое значение инновационного развития, так же как интеллектуальных и социальных усилий, которые оно требует, заставляет Европу объединять свои ресурсы и координировать действия. В нашем быстро изменяющемся мире этот вызов стимулирует амбиции компаний, так же как и далеко смотрящих правительств, заостряет их внимание на инновации и мобилизует их интеллектуальные силы и материальные ресурсы. Этот вызов, так же как и текущий ускоряющийся характер инновации заставляет нас возобновлять средства, детали или блоки информационных технологий каждые два-три года, а программное обеспечение еще чаще. В области образования и обучения этот вызов еще серьезнее, так как освоение знаний должно предшествовать индустриальным и социальным изменениям, которые мы ожидаем от инноваций; образование должно дать сегодня специалистов, которые завтра смогут определить направление интенсификации инновации, смогут достичь и экономически реализовать технологические преимущества. Инновация, как вызов современному обществу, не только мобилизует, но и создает сильную мотивацию не обязательно финансовую, но всегда психическую не только для индивида, но и для учреждений образования при активном корпоративном участии в пожизненном обучении людей. Завоевания информационной культуры и ее глобально расширяющейся сети преобразует окружающую нас социальную среду, политическую карту и экономику мира, наш инструментарий, нашу общую культуру и наш способ ведения жизни, но, прежде всего, она изменяет метод и степень саморазвития людей. Этот кажущийся несдерживаемым глобальный процесс ускоряющегося развития неизбежно вызывает напряженные социальные отношения, заставляя адаптироваться главным образом пассивную часть общества. Инновационный вызов означает уникальную задачу для будущего инженера и для университета, который его готовит. Но прежде всего — это адаптационное давление, социальное воздействие интенсивной инновации на все общество. Социальное напряжение все чаще и чаще заставляет людей приспосабливаться. В каждой новой ситуации мы, как правило, предпочитаем моделировать свое поведение, исходя из опыта нашего прошлого. Информационное общество же формулирует потребность периодически приспосабливаться к неизвестным для большинства людей моделям. Многие, сталкиваясь с серьезной переменой, непреднамеренно стремятся к прошлому. Вместо того, чтобы должным образом встретить будущее, люди предпочитают вновь и вновь пережить прошлое, подобно Дон-Кихоту принять сражение, которое кто-то давным-давно уже выиграл или проиграл. Однако новая реальность не исходит из опыта прошлого. Быстро меняющееся информационное общество как бы обособляет, исключает даже возможность возвращения к опыту минувших дней. Инновационный вызов поставил человека перед задачей определить новые проблемы, найти новые решения, даже если он заплатит за это изменением своего образа жизни. Частое изменение образа жизни отражает нашу способность следовать быстрым темпам современного общества. Это — гонка с самим собой. В этой гонке нет возможности остановиться. Человек противопоставляет саморазвитие и творчество своему же врожденному консерватизму, деградации, самовлюбленной агрессивной иррациональности и склонности к нагромождению ошибок. Цель этой борьбы, как и в случае всех серьезных инноваций, состоит в реализации нашего потенциала способностей и талантов. Этот процесс социотехнического развития со второй половины прошлого столетия индивидуализировал общество, чтобы путем фрагментации развить способность синтезировать все более новые формирования, и таким образом приобретать новые и новые способности. Особенностью века информации является повышенный спрос на разнообразие, на различие подходов, как бы не было болезненно быть свидетелем старых споров в их новом проявлении. «Мир испытывает одновременные тенденции к единству и к фрагментации в пределах единства. Никакое различие не является настолько маленьким, чтобы его нельзя было бы использоваться для деления людей на резко антагонистические группы» — настаивает известный современный физик (Gell-Mann, 1994, с.359). Надо, однако, добавить, что общая неуверенность в наши дни все чаще чередуется с индивидуальной, но сильной уверенностью в себе. Массовое приспособленчество сопряжено с индивидуальной уверенностью в правильном пути саморазвития, с требованием самосовершенствования, с движущей силой индивидуальной амбиции. Саморазвитие и инновация в большей степени зависят от индивидуальной силы, чем от коллективных особенностей. Инновация имеет в первую очередь индивидуальные психические корни, и только вторично считается социальным явлением. Информационное общество может — на основании не так уж и сложного ежедневного опыта — быть отождествлено с компьютерами, с технологией и культурой быстрой передачи данных и ее глобального воздействия. С распространением и все более эффективным применением InfoTech мы, несомненно, неразрывно связали себя с инструментом, который способен демократизировать весь социальный мир и его функционирование полностью. Эта тенденция постепенного создания подобных возможностей для каждого определилась благодаря именно информационной технологии, предоставив его целенаправленной социотехнической и экономической деятельности возможность стать глобальной. Благодаря компьютерной технологии, функциональная информация доступна сегодня фактически любому, всюду, в любое время, в любом непрерывно увеличивающемся количестве. Через InfoTech члены общества создают для себя и для всего человечества своего рода информационную окружающую среду или виртуальное пространство. Таким образом, информационное общество — это гармоничная целостность человека как явления, единство объединяющего своеобразного глобального поля информации. Без информации, конечно, не было и нет функционирования; даже микроорганизм бывает парализован отсутствием входной информации, необходимой для его функционирования. Естественно, человеческое общество всегда было информационным, хотя в доисторические времена этот полевой вид виртуальной реальности охватывал скажем только пещеру и фактический диапазон функциональной деятельности человека. Однако, человеческое общество стало информационным не только из-за своей способности хранения увеличивающейся массы данных и более быстрого информационного обмена, хотя для современного общества и это — неординарный вызов. Глобализация и ускоряющееся развитие социотехнического функционирования играет более существенную роль в этих процессах. Информационный век отличается от предыдущих и тем, что радиус функционирования индивидуума достиг и даже превысил размеры планеты Земля. Персональный компьютер в скором будущем проникнет во все важнейшие виды социотехнического функционирования, причем с конфигурацией, соответствующей индивидуальным требованиям любого человека в любой точке Земли. Чем больше ПК соответствует требованиям индивидуума, тем свободнее, активнее и шире его функционирование, тем больше способность человека повлиять, вмешаться в жизнь самого себя и своего общества. Сила информационного общества — это способность вмешательства индивида при соответствующем разнообразии организационных форм. Информационный век — это век все более и более влиятельного функционирования человека и усиления его социотехнического влияния во всем мире. Этот вызов, который все более проявляет себя перед современным человечеством, несмотря на всю свою значимость, относится к группе уже известных задач информационного века. Природа этого вызова более или менее ясна, а проблемы в принципе разрешимы. И все-таки информационное общество находится пока еще в начале своего развития. Проявляющийся вызов дальнего (или не такого уж и отдаленного?) действия по своей трудности, по общественно-образующей силе ожидаемых решений вероятно на порядки превысит уже знакомые величины. Как пример возьмем вопрос сокращяющейся социальной безопасности и растущей уязвимости общества. В настоящий момент не исключено, что при экстремальных условиях транспорт и системы связи, банковская система половины мира при их полной зависимости от InfoTech могут прекратить работать просто из-за негибкой работы компьютеров, из-за их неспособности восстановить себя и неспособности к саморазвитию. Мы могли бы рассматривать это и как обычный вызов, если бы знали что делать, будь это даже очень трудная задача. В развитии компьютерной технологии могут быть использованы нанотехнологии, биочипы, более высокая степень интеграции, повышение скорости обработки данных, и т.д. Опасность уязвимости однако растет, а степень социальной безопасности сокращается, и мы знаем наверняка, что нужно что-то предпринять, для чего необходимо по крайней мере теоретически осмыслить, что же мы недопонимаем в этом процессе. Вызов, который мы собираемся для себя сформулировать, оказывается нетрадиционным, так как требует идентификации и решения пока еще неизвестной проблемы. Приручение хаосаДля того, чтобы найти и идентифицировать информацию, нужно ее уже знать. Этот общеизвестный, хотя и весьма парадоксальный факт исходит из дихотомии нашего мышления, процесса не только структурно-логического, но и ассоциативного. В случае, когда проблема идентифицирована — и особенно в процессе ее определения — мы обычно действуем согласно нашей способности мыслить ассоциативно; мы активно предупреждаем результат, предпочитая решение, избранное интуитивно, при явно неполной информированности. В ходе решения реальной проблемы мы таким образом ищем информацию, ассоциируя с нашим «опережающим отражением действительности», активно «приспосабливаясь к будущим, еще не наступившим событиям» (Анохин, 1980). Следовательно, мы уже при постановке задачи рассматриваем как известное то, чего в действительности не знаем, чтобы найти эту информацию и заставить ее функционировать. Функциональная система является периодически самоорганизующимся единством всех своих активных и пассивных компонентов, привлеченных опережающим решением данной специфической проблемы умственным аппаратом принятия решения (Анохин, 1980). В условиях общественно-технического функционирования она рождается в формате «человек и его средство» (Szanto, 1990, 6.1.). Повторяю, мы действительно не знаем вначале, что ищем, но начинаем продвигаться вперед, функционировать, активно уточняя проблему и шаг за шагом набирая необходимую информацию по мере приближения к реальной проблеме и ее оптимальному решению. При периодичном функционировании этой системы, мы продвигаемся вперед от проблемы к проблеме, от частичной информации к частичной информации, от решения к решению по тому пути, который мы для себя определили. Причем действительно важным для нас в этом процессе периодического становления и решения является именно этот путь, непрерывное движение, Дao. Нас ведет при этом и логика нашего языка, логика пути и образования моделей, но по всей вероятности и простая страсть охоты, заставляющая нас не прекращать преследовать полезную информацию даже в весьма озадачивающих и безнадежных ситуациях. Эта наша наклонность связана с чисто человеческим способом функционирования, который мы обычно называем размышлением или когнитивным действием. Это — не столько объединение слов во фразы, с помощью которых мы хотим выразиться, хотя правильные алгоритмы функционирования также могут быть определены и в речи, это скорее востребование вызова, предчувствие проблемы, ее сознательный поиск и определение, решение задачи, которую мы постепенно формулируем сами себе непосредственно в процессе познания. Отрезок когнитивного действия, обособленное действие познания, Акт действия как таковой или Событие, то есть весь функциональный процесс от идентификации проблемы до ее решения должен быть расценен как единица или система функционирования. Акт действия — хорошо вычленяемая, законченная стадия функциональной системы. Система фактически означает непрерывный, и все же периодически действующий алгоритм, циклическое чередование его стадий, совокупность системных фаз, поведенческий ряд самокопирования событий (Gleick, 1998, с.122). Давайте положим на стеклышко нашего теоретического микроскопа отдельную стадию функционирования и рассмотрим динамику единственного Акта действия. Для лучшей иллюстрации возьмем для примера относительно простое событие: предположим, что две-три тысячи лет назад охотник вышел на охоту волка, нашел его в глубине дремучего леса, и сбил его стрелой. В идеале динамика этого действия следует по S-кривой известной логики процесса насыщения. Это означает, что в подготовительный период действие развивается экспоненциально, пока не изменяет вогнутое искривление на выпуклое, приводя его к устойчивости или плато. Наметил, представил себе это действие охотник и он же контролирует его и в дальнейшем, т.е. он определяет цель функционирования и предвидит его завершение, определяя уровень плато. Однако в этом действии участвуют два субъекта, или в нашем случае лучше сказать два действующих активных предмета, субъект и объект, охотник и волк. Поэтому весьма разумно начать рисовать S-кривую с двух концов синхронно, а стыковку двух полукривых считать точкой кульминации. Охотник и волк достигают кульминационный момент этого процесса одновременно. Действие считается завершенным, когда охотничья стрела вонзается в тело волка. Мы упростили динамический процесс действия, ограничась S-кривой. Но этот процесс включает точку кульминации, которая совпадает с точкой перелома кривой, а же две полукривые, которые соединяют точку с верхним и нижнем уровнями деятельности. К тому же не трудно заметить, что это собственно процесс о двух S-кривых с точкой кульминации между ними. Давайте теперь пропустим две-три тысячи лет и предположим, что человек нашего времени хотел бы получить некоторую информацию при помощи поисковой программы глобальной сети. Это тоже своеобразный тип охоты с несущественным отличием: вместо стрелы мы запускаем поисковую программу. Поиск заканчивается 72120 «правильными» ответами вместо одного желаемого «волка», но зато в одно мгновение. Запуск дальнейшего процесса с целью приближения к точке кульминации неизбежен. В случае, если наш охотник имеет довольно-таки неопределенную идею относительно характера требуемой информации, попросту говоря, смутно представляет себе, что ему надо, а идущие ему навстречу поставщики информации со своей стороны тоже не сидят сложа руки, а льют информацию, как из ведра, это злополучное действие не скоро придет к своей завершающей точке кульминации. Расхождение, как правило, настолько велико, что полукривые, хоть и принадлежат к тому же самому процессу действия, не соединяются, а сосуществуют не касаясь друг друга. В данном случае мы имеем не одну, но две кривые, а территория гистерезиса между ними придает действию его современный хаотический характер. В процессе каждого акта действия следовательно должны распознаваться не одна, но две равноправные точки начала и завершения (противо-начала), точнее две кривые встречных под-действий. Если б, то и щ; если действие, то и противодействие; верхняя и нижняя кривые гистерезиса. Акт действия в любой момент своего процесса характеризуется следовательно двумя составными, которые неразделимы, хоть и отрицают друг друга. В любой из своих временных сечений или состояний действие — это дихотомия двух одновременных, дополняющих друг друга и одинаково существенных элементов действия, несмотря на факт, что с точки зрения целостности процесса, то есть исходя из точки кульминации действия, по которой оценивается весь результат Акта, эти состояния исключают друг друга. Отмечу, что статическая и динамическая стороны действия во время всего весьма турбулентного процесса отличаются друг от друга, к тому же проявление статической стороны предшествует динамической. Сначала это может звучать странно, но давайте рассмотрим конкретные примеры: статические ЭВМ уже действуют, в то время как динамическое программное обеспечение только запускают в работу. Мы ступаем сначала на одну ногу (опору), чтобы продвинуться вперед при помощи другой. Во всяком случае, в начале Акта должна быть обозначена гипотетическая точка кульминации действия, должна существовать внутренняя тенденция, ведущая к кульминационному моменту, но шизофренический или шизоидный характер действия с его 72120 «правильными результатами» настолько велик, что описать его можно вероятно только при помощи вероятностной функции. Согласно сравнительно недавно разработанной математической методологии, динамические нелинейные процессы такого неопределенного, вероятностного рода могут быть описаны как некий хаос. Причем экспоненциальный характер неустойчивости служит критерием понятия хаоса. Критерием хаотических систем является и то, что они как правило чрезвычайно чувствительны к воздействиям извне. Управление таким процессом может осуществляться, следовательно, с помощью слабых воздействий в те моменты, когда развивающаяся система оказывается перед зачастую очень большим числом возможных равноправных продолжений действия и вынуждена сделать выбор, продолжить свой путь по тому или иному конкретному пути развития. По Глейку, теория хаоса — наука больше о процессе, чем о состоянии; она имеет дело со становлением более чем с бытием (Gleick, 1998, с.15). Детерминированность хаоса определена его тенденцией к точке кульминации в случае Акта действия, а в других случаях к геометрическим формам различного характера. Динамика размазанного нелинейного хаотического процесса графически характеризуется дискретными геометрическими фигурам, называемыми аттракторами (притягивающими). Другими словами, линейная статика процесса предшествует его нелинейной динамике, дискретность предшествует размазанности. Эту закономерность можно понять, если принять во внимание что все процессы во Вселенной по своей природе регрессивны и поэтому конечны. Именно заторможенность, степень ограничения процесса Акта действия, его регрессивность заставляет статику несколько предшествовать динамике, тормозя ее, препятствуя ей на каждом шагу. И, наоборот: громоздкая статика, становясь все более «тяжелой», требует постоянного подкачивания со стороны динамики. Я сказал бы, что длина шага, радиуса Акта действия все более удлиняется по динамической полуоси, в то время как динамический заряд, содержание функционального действия все более увеличивается. Такая тенденция может быть выражена следующей закономерностью: число потенциально возможных решений в начале Акта должно со временем увеличиваться для того, чтобы в ходе расширяющейся деятельности прийти к единственно правильному решению возникающих функциональных проблем. Динамический нелинейный хаотичный процесс Акта действия не только детерминирован, то есть имеет направленность, его хаотичность к тому же увеличивается. Хаос, степень беспорядочности процесса — не смотря на внутреннюю тенденцию к порядку — может только увеличиваться от стадии к стадии, от Акта действия к следующему Акту действия. Начальная неопределенность исхода, разброс, хаотичность сегодняшней сетевой охоты превышает степень беспорядочности процесса охоты на волка три тысячи лет назад. Внутренний хаос, гистерезис Акта действия со временем увеличивается, и не потому, что нам вздумалось глобализировать общество и перейти в информационный век. Напротив, потребность в глобализации и в информационной технологии проявилась потому, что внутренний хаос Акта действия и степень начальной неопределенности его исхода растет, в то время как его детерминированность, направленность остается неизменной. И хотя поведение хаотических систем считается непредсказуемым, существует возможность управлять их динамикой. И именно эта возможность предоставляется сегодня технологией информатизации и глобализацией. Дело в том, что поведение этих систем непредсказуемо с помощью методов теории вероятности, но на основе наблюдений за системой возможно предсказать ее поведение в будущем. Причем ее будущее являет собой функцию от предыдущих значений поведенческого ряда, то есть от функционирования. Хаос — универсальное явление. Я бы сказал, что это — общая особенность динамики процессов, характер или свойство их изменчивой природы. Функциональная система как целенаправленное алгоритмическое проявление нелинейности динамического процесса такое же универсальное явление. Эта универсальнасть, эта универсальная закономерность должна проявится во всем, в том числе и в человеческом обществе и в психике индивида. Как общество, так и человек склонны уравновешивать растущий внутренний детерминированный хаос Акта действий повышением степени приспособляемости, числа степеней свободы или неоднозначности, недоопределенности системы «человек и его средство» путем развития техники и саморазвития человека. Комплементарный характер процесса и дихотомия социального действия становятся все более видимыми; разнообразие и уникальность людей объединяются с универсальностью и интеграцией общества. Уже упоминалось, что психика индивида также обладает этой особенностью из-за того же самого эффекта растущего внутреннего детерминированного хаоса; психика характеризуется двумя первостепенными, но причинно несвязанными состояниями или событиями, которые появляются одновременно. Это — то, что Карл Густав Юнг назвал синхронностью переживаний: «синхронизм событий, которые будто бы взаимосвязаны, но не имеют никаких доказуемых причинных связей» (Jung, с.515; цитата по Koestler, 2002, с.382). Согласно наблюдению Юнга, действующий человек имеет одновременно и совместно «две различные психические составные: одна из них обычная (причинно оправдываемая), а другая критическое переживание, не исходящее из предыдущего, но впоследствии доказуемое» (там же, с.385). Надо признать, что именно эта закономерность дихотомии, это проявление природы гистерезиса Акта действия толкает психику человека в пропасть деградации, возвращает ее на низшую ступень развития. К счастью, эта тенденция не влияет на наши интеллектуальные способности (согласно Юнгу, «психика не связана с мозгом непосредственно» — там же, с.386), а вот наше поведение подвергается проявлению гистерезиса все серьезнее, что в наше время все более дает повод для беспокойства. Умиротворить, приручить внутренний хаос события или Акта действия трудная, но чрезвычайно важная задача информационного века, даже если мы в достаточной мере осмыслили характер этого явления. Естественно, можно, как обычно, закрыть глаза и не обращать на это внимание — почему мы должны вообще что-то делать, когда все прекрасно? — все решится как обычно; рано или поздно беспорядок самим собой закончиться порядком (Gleick, 1998, с.18). Это верно, но с другой стороны довольно рисковано, когда из-за глобальной сети «в любой момент может проявиться неустойчивость ... и даже крошечный, незначительный толчок может привести к серьезным последствиям» (там же, с.32). Речь идет о деятельности как активности, а растущий внутренний хаос, наращивание активности означает растущую чувствительность к начальным и краевым условиям и к импульсам извне. Можно предположить, что психическая дихотомия все больше проявится в различных формах социальных противоречий с непредсказуемыми последствиями в виде необычно крайних образцов человеческого поведения, отклонения от принятых норм, распущенности, острых или маниакальных формах чувствительности, что неминуемо приведет к дисфункции, а с ней к социальным конфликтам с неизвестными последствиями. Притом не в индивидуальном, а в массовом порядке. С внутренним ростом хаоса чувствительная зависимость становится особенностью глобальных процессов, признаком плюрализма, и в меньшей степени исключительным отклонением, в то время как некоторые периодические переменные этих процессов — хотя большая часть параметров остается устойчиво периодической, или близко периодической — постепенно сдвигаются в апериодические. Параметры имеют ступенчатый характер, и как результат их апериодичности — раздвоение в поведенческом процессе (бифуркация), что приводит к неожиданному разветвлению. Это — видимая характеристика хаотических процессов. Человеческое общество не исключение относительно закона универсальности; область гистерезиса социальной деятельности может только увеличиться, т. е. существует вероятность, что крошечный, до настоящего времени незначительный случай, поступок изменит краевые условия другого процесса, а тот краевые условия следующего, и так далее, что вызовет цепную реакцию, которая может выглядеть, как неправильные колебания в глобальном обществе связанном InfoTech. «Хаос — это стандартный термин непериодического поведения», заявляет основатель теории хаоса (Lorentz, 1995, с.20); «хаос ... это термин, ... относящийся к системам уравнений, которые обладают по крайней мере несколькими непериодическими решениями, даже когда большинство решений являются периодическими. В системах, которые сегодня называются хаотическими, большинство начальных состояний сопровождаются непериодическим поведением и только некоторые экстремальные состояния приводят к периодичности» (там же, с.21). Что действительно делает этот хаос детерминированным, так это «отношение между недостатком периодичности и увеличением количества незначительных различий» (там же, с.137). Поэтому, «если общее решение (уравнений) системы является непериодическим, то общее поведение будет хаотичным» (там же, с.142). Позвольте повторить: поведение людей, которые активно участвуют в множестве социальных процессов, при возрастании внутреннего хаоса их действий проявит себя в качестве самых различных неожиданных психических отклонений, аберраций. Крайне повышенная чувствительность к начальным и краевым условиям деятельности ведет к предельно опасным формам социального поведения. Создается впечатление, что нам не избежать угрозы детерминированного хаоса и его социальных последствий, что означает неординарный, нетрадиционный вызов даже в компьютерном пространстве. Среда информацииДо сих пор общественные науки предпочитали не пользоваться методами и законами точных наук. (Социобиология служит и как исключение, и как отрицательный пример). За основу брался постулат, что общество — это сборище актеров-одиночек со свободной волей, и если какая-то закономерность вообще применима к такому обществу, то она не что иное, как совпадение индивидуальных привычек, способностей, интересов, ценностей и представлений этих актеров. Новое тысячелетие и тут привнесло будто бы своего рода метаморфозу. Возможно, эта метаморфоза не настолько очевидна в случае социальных наук, но в науках, приложенных к обществу — например, в информатике — она все более заметна. Глобализация, например, не может быть расценена как процесс, предоставленный милосердию и бесчинству некоторых индивидов или компаний (McDonald’s, Coca-Cola и др.), даже если они ухитрились изобрести себе многонациональную корпоративную сеть. Закон универсальности, который открыл Митчел Фейгенбаум, объясняет поведение как деятельность, которая зависит от внутренних параметров настройки. Закон универсальности говорит, что в кажущейся нерегулярной динамической смеси — и давайте признаемся, что человеческое общество является именно таковой — беспорядок имеет тенденцию к порядку, причем при переходах имеет место «правило гаммы», то есть приобретенные свойства сохраняются даже если все остальное, в том числе и структура изменяются (Gleick, 1998, сс.194-203). «Под универсальностью подразумевается, что различные системы ведут себя одинаково, что говорит о природной закономерности систем в точке перехода из турбулентного в упорядоченное состояние» (там же, с.208). Что касается универсальности закона систем, человеческое общество как системное образование не может быть исключением. Понятие поля (например, электромагнитного поля) точным наукам хорошо известно; инструменты и уравнения дают возможность не только определить природу поля, но и использовать это явление для удовлетворения социальных потребностей. Общественные науки только начинают обращать внимание на факт, что информация доступна всюду, всем, и в любое время, притом даже одновременно. Информация будто бы размазывается по всему земному шару независимо от своего содержания. Она формирует вокруг нас диссипативную среду размером с земной шар. Будучи размазанной по всему миру, эта среда образует как бы информационное поле Земли. Полагаясь на дискретную форму информации при ее хранении и в ходе ее преобразования или передачи, мы в такой же мере должны считаться с полевым характером информационной среды. Дискретность и размазанность два противоречащих, но одновременно комплементарных, дополняющих друг друга проявлений одного и того же процесса. Одно и то же событие может быть описано с двух позиций, двух своих проявлений, которые исключают, но одновременно предполагают, дополняют друг друга. Вспомним, например, вспышку молнии, поток жидкости, вибрацию нити между двумя фиксированными точками, когда явление описывается одновременно как стационарное состояние и как динамичный процесс. Любое событие деятельности может и должно быть описано не только лишь структурой и стационарным состоянием, но и рядом состояний процесса, его сечениями последовательности, а также областью размазанности, полевым образованием. Будучи динамическим процессом, событие или Акт действия ведет себя как единое целое, то есть как система: И если это так, то мы должны считаться с проявлением этого явления и его закономерностями не только в точных, но и в социальных науках. В дополнение к описанию отношений в виде «поле-сингулярность» или «размазанность-дискретность», необходимо отметить, что если считать единственно правильным причинное структурно-логичное мышление Аристотеля-Декарта, наше с вами ассоциативное мышление должно расцениваться как неправильное; серьезным научным подходом сегодня как правило считается структурное и поэтому логически линейное описание событий. Зачастую даже понятие единства, целостности и ее нелинейности, не говоря уже о ее размазанности, звучит для многих ученых как сомнительная «холистика». Размазанность, диссипативность полевой беспрерывности и ее язык аналогии существенно отличаются от цифрового языка прерывистой дискретности. В настоящее время цифровое выражение события — любимый язык информатики. Мы действительно многому обязаны дигитализации: получаемый с ее помощью математически операционный линейный ряд переменных пригоден для технического оформления, контроля и управления. С другой стороны, используя лишь числовое описание событий, мы неизбежно мыслим не просто линейно, но к тому же и дихотомиями, противоречиями и противостояниями. Размазанность же, напротив, не может быть переведена так просто в цифровую форму; чтобы преобразовать данные в цифровую форму, нужен дополнительный алгоритм. Ее диссипативность с другой стороны выражает целостный характер процесса и следовательно динамизм. Понятия размазанности и дискретности, как уже подчеркивалось, явно противоречат друг другу, несмотря на факт, что они действительно представляют ту же самую действительность, причем двумя различными способами, действительность с ее двумя лицами Януса. Размазанность важна для информатики не просто потому, что это «второе лицо» реальности события, дополняющее цифровую дискретность до его целостности. Позвольте заметить, что мы, как правило, понимаем и объясняем явление размазанности в терминах дискретности, а не в обратном порядке; хаос для большинства звучит как порицание. Между тем, важна не настолько та или иная природа явления, насколько целостность комплементарности «размазанность-дискретность», ее комплектность и взаимозависимость ее членов. Свыше того, динамика, как известно, может как бы освободиться от статики и приобрести чуть ли не независимость. Этим фактом, как и дихотомией или лицами Януса события нельзя пренебрегать только лишь на той основе, что нам чужд этот язык, ведь язык динамики — аналогия в большей мере — это вообще-то язык размазанности. Целостность комплементарности «размазанность-дискретность», звучит как нетрадиционный вызов, которого информатике не избежать, ни как «земля непознанная», ни как арсенал будущих средств и технологий. Поскольку задействованы реквизиты InfoTech, сегодняшнее аппаратное обеспечение слишком уж «hard», жестко, чтобы позволить программному обеспечению, «were» пластично и мягко («soft»), то есть свободно приспосабливаться к постоянным изменениям диссипативного детерминированного хаоса. Алгоритм — в математике например извлечение корней или приведение к общему знаменателю, то есть ряд шагов, выполняемых согласно определенным правилам — заставляет сегодняшние компьютерные программы выполнять поставленные задачи согласно заранее зафиксированным операциям. Следовательно, то, что мы называем сегодня программой или частью программного обеспечения, в большей мере являет собой пакет команд с приложенными к ним правилами вычисления (Gell-Mann, 1994, с.35), что ведет к оснащению компьютера всеми возможными или предусмотренными командами и порядком их применения, последовательности. Однако, такая программа — не что иное, как сложный алгоритм, «простая» статическая сборка различных алгоритмов, которая весьма далека от того, чтобы считаться «сложной адаптивной программной системой», способной приспосабливаться к динамике детерминированного хаоса. Мы еще не достигли той стадии, когда программа не только выполняет данную задачу, но и ощущает нашу ориентацию, чтобы путем самообучения предупредить наши намерения. Мы нуждаемся в саморазвивающейся программе достаточно эффективной, чтобы — адаптируясь к изменяющимся условиям — она смогла бы самостоятельно выполнить сужение своих действий от хаоса проблем и множества возможных начальных решений к актуальной проблеме и к единственно правильному ее решению без затребования распоряжений снаружи. Она должна постоянно приспосабливаться к непрерывно изменяющимся начальным, внешним, краевым и внутренним концептуальным условиям. (Адаптивное изменение может быть автоматизировано; инновационное же принадлежит только группе человеческих способностей). Мы собственно должны бы называть программой самоуправляемое адаптивное функционирование, которое — при условии выполнимости — могло бы идентифицировать и решать рутинные задачи (рутина, или адаптивное функционирование составляет более 90% нашей деятельности). Такая адаптивная саморазвивающаяся программа позволила бы нам уделять больше внимания инновационному функционированию, переходу к нетрадиционным проблемам. Саморегулирование (другими словами, контроль контроля) является особенностью динамической системы или ее программы, функцией от собственной переменной контроля, которая через динамическую подсистему непосредственно воздействует на область контроля (Abraham, 1987, рис. 66). «Динамическая система — это такая система, которая может быть представлена как точка в пространстве, где к каждой точке относится вектор, определяющий ее развитие или развертывание» (там же, с.543). Если такая в должной степени структурно нестабильная система располагает вначале одним контролем, тогда ее раздвоение (бифуркация) может привести, генерировать векторное поле контроля одного Таким образом программа в пределах собственной динамики может стать самообеспечивающим и саморазвивающимся процессом. Явление хаотического гистерезиса — все события на атомном уровне демонстрируют системное поведение подобного рода (там же, рис. 56) — таким образом, может быть описано при помощи диаграммы раздвоения. Законы кинематики делают возможной самоорганизацию сетей сложных иерархических систем (там же, рис. 83, 84) с обратной связью от результата одних систем к контролю других. Таким образом, появляется возможность создать саморазвивающееся программное обеспечение. Подводя итоги (подробнее в Szanto, 2003), я считаю, что информационный век начался тогда, когда информационная размазанность достигла размеров планеты Земля, то есть когда информационное поле стало глобальным. Динамизм этого ускоряющегося процесса стал управляемым благодаря быстрому развитию информационной технологии, InfoTech. Громоздящиеся перед нами нетрадиционные вызовы формулируются в результате того лавинообразного прогресса, который следует из природы детерминированного хаоса и других особенностей динамического процесса, которыми до настоящего времени мы позволили себе пренебречь. А именно: Ссылки:1. Abraham, Ralph H. and Shaw, Christopher D. (1987): Dynamics. A Visual Introduction. In: Self-organizing Systems. The Emergence of Order (Ed. Eugene F. Yates), Plenum Press, N.Y. Статья впервые опубликована в /Technovation/, 2005, 25/5, pp. |
Авторизация
|
||
Орлова Светлана Юрьевна
Электоральные настроения жителей Ярославля. Отношение к предстоящим выборам мэра городаОбобщенные выводы по опросу и фокус-группам Нестабильность, быстрое изменение общественного мнения в Ярославле, как признак современной электоральной ситуации. Специфика инфомационно-эмоциональной среды, настроение избирателей - это четкое
Базовая психологическая модель человеческого капитала |
||||



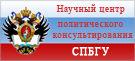 Научный центр политического консультирования СПбГУ
Научный центр политического консультирования СПбГУ Центр социальных проектов
Центр социальных проектов  Сайт профессора
Сайт профессора Имидж-студия 28
Имидж-студия 28 Академия Быстрых Навыков
Академия Быстрых Навыков